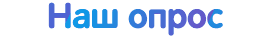23:58 Цветы Последних Желаний |
|
– Эй, как тебя зовут? Пустой кабинет отца – традиционное место для отбывания наказаний за провинности любых масштабов – самое последнее место, в котором Бернт мог с кем-то познакомиться. Особенно с тем, у кого смуглая кожа, фиолетовые глаза, сияющая улыбка и такое яркое белоснежное одеяние, что глазам становится больно. А особенно-преособенно с тем, кто, по-хозяйски опираясь на золоченую раму, смотрит на него из картины. – Меня зовут Ханнес, – широкая улыбка мальчика, смотрящего на Бернта во все глаза, заставила последнего невольно расслабиться. Сложно бояться того, кто смотрит на тебя с таким восхищением, пусть и с нарисованного моста, перекинутого через нарисованную реку, и обдуваемого нарисованным ветром. Хоть и последнее не точно, но Бернт ясно слышал аромат полевых цветов. – Мне с восходом Шестого будет уже двенадцать Солнц. А как зовут тебя? Сколько тебе Рассветов? – Я Бернт, – и Бернт неожиданно для самого себя отодвинулся на край стула, на котором просидел уже, кажется, несколько столетий, и втянул голову в плечи. Странный гость совершенно его не пугал, отнюдь. Скорее дала о себе знать выработанная за годы жизни с отцом привычка заранее бояться любого разговора. Особенно, когда тебя о чем-то спрашивают. – Мне десять. Ханнеса такой ответ вполне удовлетворил. Выглядел он таким счастливым, что Бернт позволил себе вольность немного расслабиться и разжать пальцы, с силой стискивающие мягкое сидение резного стула. – А что ты делаешь? Это какая-то игра? Нужно не двигаться? Удержать стул? Он что, прыгает? Бернт невольно хихикнул, представив себе прыгающие по кабинету отца стулья. Вот умора-то! Может хотя бы это заставило его заглядывать к наказанному Бернту хотя бы раз в пару минут, а не часов. Хоть в этом случае и потерялся бы смысл наказания. Ханнеса, казалось, этот смешок уязвил, и Бернт поспешил объяснить, что стулья здесь самые обыкновенные, что прыгать им совсем нежелательно, и что отец оставил его тут одного подумать над своим поведением. – И тебе это поможет? – с недоверием переспросил Ханнес. – Ну, это поможет папе, – не совсем уверенно отозвался Бернт. – И тебе нельзя с него встать? – Нельзя. Растерянный, ничего не понимающий Ханнес слегка отпрянул от золоченой рамы, с подозрением глядя на своего маленького, взъерошенного и безумно напуганного собеседника. Напуганного звуком шагов, утопающих в мягком ворсе ковра, но тем не менее прекрасно слышимых в наступившей напряженной тишине. – Уходи! – испуганно прошептал Бернт, с силой вцепившись в мягкую обивку и подавшись вперед. – Тебе нельзя тут быть! Последнее, что помнит Бернт – это слегка вытянувшееся лицо, удивленные глаза Ханнеса и то, как он просто исчез, зайдя за раму. На смену дуновению нарисованного ветра пришел дорогой парфюм, а широкой улыбке на загорелом лице – плотно сжатые тонкие губы отца и неодобрительный взгляд серых глаз. Привиделся. Странный мальчик с аметистовыми глазами был просто желанной в тот момент поддержкой и способом отвлечься от до слез обидных выговоров отца и сдержанных, скованных объятий матери. Бернт ещё не раз сидел на этом самом стуле, с силой вцепившись в мягкую обивку и невидящим взглядом скользя по столу из красного дерева, в которое можно было смотреться вместо зеркало. И нет-нет, да взгляд перескакивал с выстроенных по линейке книг в сторону картины в тяжелой раме в надежде ухватить подхваченный ветром белоснежный плащ или широкую улыбку, принадлежащую странному мальчику. И каждый раз Бернта зло и жестоко обманывали собственные глаза, вдруг усмотревшие перемену пейзажа или погоды на картине, а то и вовсе появление доселе отсутствующих людей, удаляющихся от моста на повозках или пешком с корзинами в руках. Привиделось. Так ведь? Отец умер, когда Бернту исполнилось двадцать. И он, честно говоря, не особо помнит, как переживал это время. Единственное, что Бернт запомнил очень отчетливо – это невероятную тишину, затопившую, кажется, все комнаты, вливавшуюся в уши и забивавшую легкие. Мать не будила его с восходом солнца, заставляя начинать свой день с физических упражнений и чтения. Мать не заставляла его цитировать римских философов и переписывать научные трактаты каллиграфическим почерком. Мать не заставляла его часами сидеть на резном стуле, чтобы «подумать над своим поведением». А ещё она не приходила на выступления Бернта в конце учебного года, когда он представлял свои исследования. Она, в отличие от отца, не стояла за ширмой, высоко подняв голову и опираясь на трость, и прислушиваясь к каждому слову сына. А затем, независимо от результата, не гладила, чуть неуклюже и как-то скованно его по плечу, не улыбалась, так же неуклюже и чуть скованно, словно не зная, как правильно это делать, и не говорила, что он отлично потрудился. Она не заходила к нему по ночам, думая, что он спит, чтобы посидеть рядом с ним несколько минут. Бернт тогда с трудом дышал от волнения, стараясь незаметно из-под опущенных ресниц рассмотреть сгорбленную, наперекор всем правилам приличия, фигуру отца, сидящую на его кровати. А ещё, если уж на то пошло, она иногда словно не знала, как правильно себя вести с Бернтом. Ему так до конца жизни не будет понятно, что именно повлияло на характер его матери: существенная разница в возрасте с отцом или легкая обида, вызванная тоской по Франции, из которой они уехали, как только родился Бернт. Бернту иногда казалось, что отец всегда улыбался только ему. И похвалу, и эту усталую, но довольную улыбку он очень трепетно хранил в своем сердце. Он бы мог, конечно, злиться на отца за то, что до совершеннолетия он боялся посмотреть ему в глаза, и постоянно втягивал голову в плечи, но только с годами ему удалось понять, что подобное поведение допускалось только в его присутствие. В остальном – прямая спина, чуть приподнятый подбородок и взгляд, устремленный только вперед. И ни в коем случае не опускать голову. Потому что на тебя смотрит папа. – Ого! Кого я вижу! Бернту стоило большого труда не выронить из рук кипу книг. За эту пару месяцев он привык к неожиданным визитам гостей, к звонкам среди ночи и крайне неприятным встречам, но подготовить себя к столкновению с кем-то из другого мира ему представлялось весьма проблематичным. Ощущение чужой руки, хватающей его за локоть, заставило Бернта невольно вскрикнуть. Сияющий от восторга высокий смуглый молодой человек смотрел на него во все глаза, едва не вываливаясь из картины. Заставленная коробками и сундуками комната за его спиной мерно покачивалась, и пришельцу из другого мира пришлось с силой вцепиться в золоченую раму. Бернт привык не удивляться ничему, однако, трудно сохранять невозмутимое выражение лица, когда тебя пытаются утащить в трюм нарисованного корабля. – Ничего себе! Бернт! Помнишь меня? Растерянный, отвлеченный от мрачных мыслей, Бернт удивленно захлопал глазами. Тот, кто смотрел на него из картины, выглядел лет на десять, если не на пятнадцать старше его детского видения. Ханнес стал выше и шире в плечах, голос огрубел, но сияющие аметистовые глаза развеивали всякие сомнения, касающиеся личности гостя. – Ханнес? – А я тут спустился в трюм плеснуть себе знаменитого рулгландского вина, которое, как говорят, можно пить только в полнолуние, а тут окно в твой мир! Вот поднимусь сейчас на палубу и выскажу капитану, что о подобных сюрпризах нужно предупреждать заранее! В чем Бернт на тот момент был совершенно уверен – так это в сохранности здоровья капитана. Ханнес, сияющий от восторга, с блестящими мальчишеским задором аметистовыми глазами, не отрывал взгляд от Бернта. – Непривычно видеть тебя не на стуле. Все переловил? И тут Бернт, впервые, кажется, за все три года после смерти отца, позволил себе рассмеяться. – Капитан подождет, вино можно выпить и тут, да простит меня Рхат. А пока, Бернт, у тебя есть пара часов, чтобы поболтать? И как же странно было вновь, спустя почти десятилетие, болтать со своим детским видением! Как же легко стало на душе от осознания того, что странный мальчик ему не привиделся, и они с Ханнесом на самом деле разговаривали тогда в кабинете отца. Как же волнительно было осознавать, что мир, запрятанный по ту сторону золоченой рамы, существует на самом деле! Там живут люди, ездят повозки, дуют ветры и текут реки. А ещё живут совершенно удивительные, совсем-не-такие-как-он люди. Ханнесу девятнадцать солнц, считая от Тринадцатого. Он единственный наследник в семье, у него нет ни братьев, ни сестер, поэтому именно он станет следующим правителем страны Тысячи Солнц. Почему ты так реагируешь, Бернт? Ты что, никогда не видел принцев? – Я их вижу каждую декаду, когда у нас проходят Совет Королей, удовольствие это ниже среднего, – закатив глаза, заявил Ханнес. – Ну, ты знаешь: «Томас – наследник лиргардийского трона. Иди, поздоровайся с ним, Ханнес, его отец – Абрахам – пользуется огромным уважением даже среди старейшин»; «А вон там принцесса Амели – говорят, что в её роду были ильды, которые передали ей тайные знания своего народа». Честное слово, Бернт, тут так скучно! Бернт что-то задумчиво промычал. Скажи ему кто-нибудь неделю назад, что его посетят гости из другого мира, он бы лишь рассмеялся. Сейчас же мысль махнуть на все рукой, закинуть на плечо сумку и перелезть через картинную раму к Ханнесу отнюдь не казалась ему такой глупой. Скорее напротив. Но тотчас чувство стыда накрыло его с головой, и Бернт опасливо покосился в сторону спальни матери. Она не выходит оттуда уже почти две недели, и единственное её развлечение по вечерам – слушать, как Бернт читает ей книги, сидя у камина. Прямо сейчас он направлялся к ней. «Дары ветров» – её любимая повесть – едва не прожгла Бернту ладонь. – Иду! – неожиданно громко крикнул Ханнес, обращаясь к кому-то, кого Бернт не мог видеть. – Слушай, Бернт, – Ханнес вновь обернулся к своему собеседнику, – как мы можем с тобой встретиться? В прошлый раз мы встретились в кабинете у твоего отца, а я тогда был в деревушке недалеко от столицы. Сейчас я в открытом море, – Ханнес развел в стороны руки, словно пытаясь объять необъятное. – А где ты? – Я в коридоре, который ведет в кабинет отца. До него шагов пять, не больше. Бернту стоило большого труда сохранить на лице улыбку. Возможность вновь увидеть Ханнеса и убедиться в том, что он не был его детским видением, придала Бернту сил, и горечь от потери отца и болезни матери ощущалась не так остро. Вот и оставалось только стоять напротив картины, вдыхать соленый морской воздух и наблюдать за тем, как Ханнес ходит из угла в угол, заложив руки за спину. – Слушай, а может это зависит от времени, когда мы с тобой встречаемся? Или от смены Солнц? Честно говоря, я ничего не понимаю, может ты мне поможешь? Бернт рассеянно кивнул. Он, как и Ханнес, тоже с трудом понимал, что происходит, но одна деталь заслужила его особое внимание: если в момент их первой встречи Ханнес был старше Бернта на два года, то теперь Бернт был старше Ханнеса на четыре. И, как и в прошлый раз, встреча оборвалась на самом неожиданном моменте: на лестнице появился дворецкий, держащий в руках стопку книг из кабинета отца. Бернту пришлось спуститься ему навстречу, чтобы указать, куда нужно отнести собрание сочинений по истории литературы, а когда он вернулся обратно, Ханнеса уже не было. Картина словно выцвела, часть предметов с нее исчезла, зато на одном из нарисованных деревянных ящиков Бернт разглядел карту. Видимо, не ему одному хотелось вновь встретиться со своим другом из другого мира. В следующий раз они встретились, когда Бернту было тридцать, а Ханнесу – сорок два по меркам его, Бернта, мира. Была зима, Бернт разбирал старые письма в кабинете отца, когда вдруг краем глаза заметил какое-то движение на картине. Так и есть! Смуглая кожа, широкая улыбка, аметистовые глаза и теперь уже золотое одеяния. Под цвет песков Нилг-Суррат-Рэна. Впервые за все время их встреч Бернт и Ханнес смогли спокойно поговорить. Бернт закрыл дверь в кабинет, заварил чай и, восхищенно глядя на гостя из другого мира, слушал рассказы о, кажется, другой Вселенной. – Пойдешь? В глазах Ханнеса – почти мольба. Смуглая ладонь протянута к нему, Бернту, в совершенно иной мир, за пределами душной, пыльной комнаты. Где-то внизу часы отбивают полночь, ветер холодной рукой давит на окно, жалобно воет, прося убежища. Это все здесь, в этом мире. А там – бесконечные песчаные пустыни, Хранители Душ, магия и волшебство. Там – Ханнес, сокровища Марлока, Лиргардия и сотни неизведанных земель. Бернту стоит большого труда отказаться. Там – счастье и волшебство, здесь – медленно сходящая с ума мать, развод с женой и проблемы со старшей дочерью. Счастье и волшебство заслужили все, а не только он. Ханнес, в отличие от Бернта, не может и не хочет скрывать своего разочарования. Бернт в самый последний момент хватает его за локоть, когда Ханнес уж было разворачивается чтобы уйти. Бернту приходится перегнуться через раму, и на мгновение он оказывается где-то за пределами комнаты. В месте, где пахнет пряностями, благовониями и чем-то, очень похожим на домашнюю выпечку. Ханнес останавливается, словно бы с неохотой, но все же поддерживает руку Бернта, чтобы ненароком, против его воли, не потянуть за собой. – Я, кажется, во всем разобрался, – и Бернт впервые за несколько лет искренне улыбается. – Теперь мы можем заранее договориться о нашей встрече. Отец у Бернта знал все на свете. Иногда казалось, что в голове у него была целая библиотека, и книги там были написаны на всех языках мира. Даже мертвых. История, география, медицина, философия, политика, искусство – с ним можно было поговорить на абсолютно любую тему, и он всегда мог поддержать разговор. С Бернтом разговор на тему той же политики оборвался бы на первом же слове. Он, в отличие от отца, не интересуется последними новостями, историей государств, ему совершенно неинтересны расстановка сил на мировой арене и отношения между странами. Бернт помнит первый вечер, когда ему разрешили присутствовать при «взрослом» разговоре, и хоть он отмалчивался все эти три ужасно долгих часа, кое-то зацепило его внимание, когда он от скуки стал пересчитывать книги в шкафах. У отца была коллекция книг, посвященных истории искусств. И однажды Бернт, оставшись один, решил пролистать парочку книг из отцовской библиотеки. Кто же знал, что на страницах затянутых в кожу, неподъемных томов по истории он увидит волшебные пейзажи, горы и пустыни, деревни и города, принадлежащие, кажется, другому миру. И если в детстве, ещё десятилетним мальчишкой, Бернт только и мог предполагать, что невероятной красоты пейзажи принадлежат другому миру, то сейчас, в возрасте почти сорока лет, он почти в этом не сомневался. Именно этому он посвятил почти десяток лет своей жизни: изучению отцовских книг, исследованию его библиотеки, в которой нашлись книги на совершенно неизвестных ни Бернту, ни кому-либо из его работающих в музее коллег языках. Проводя бессонные ночи за пролистыванием «Истории искусств» и составлением карт, Бернт все чаще впадал в уныние, осознавая, что на самом деле он абсолютно ничего не знал о своем отце. Он, если уж на то пошло, даже не знал, откуда его отец родом. Постепенно, рисуя карту за картой, ошибаясь в расчётах, сопоставляя географические названия разных миров, Бернт начал все больше и больше узнавать о тех мирах, которые скрывались в кабинете его отца. На смену зиме приходила весна, весну сменяло лето, потом наступала осень, и время вновь шло по кругу. Росли стопки исписанных бумаг, нарисованных карт, а странные символы на неизвестных доселе языках вдруг стали восприниматься, как неотъемлемая часть жизни. Бернту оставалось лишь удивляться тому, что он раньше не знал об этом языке. Как и о мире, который оказался намного ближе и роднее чем тот, в котором он прожил почти полвека. – «Золотая черепаха»? Да, так называется утес неподалеку от деревни Орл. Ханнес хрипло смеется, поглаживая седую бороду. Бернт, устало улыбаясь, присаживается рядом, прямо напротив «Золотой Черепахи» - картины, из которой, опираясь на плечо Бернта, вышел Ханнес. Ханнесу – почти восемьдесят. Бернту едва исполнилось семьдесят. Король Страны Тысячи Солнц облачен в золотое одеяние, расшитое драгоценными камнями. Седые волосы заплетены в косы, и о прежнем, таком знакомом и родном Ханнесе, напоминают лишь смеющиеся аметистовые глаза, цвет которых потускнел спустя почти целый век, и широкая, не по-королевски беспечная, озорная улыбка. И если ещё пару лет назад Бернт бы начал обнимать Ханнеса, громко смеяться и без умолку болтать о своих исследованиях, то сейчас единственное, на что он был способен – это немой разговор, в котором каждый прекрасно понимал друг друга даже без слов. Музей, расположенный прямо в центре города, и стал тем самым местом, где пересеклись временные пути. Было трудно найти Ханнеса, но ещё труднее – запрятанные по всему городу обрывки чужих миров, ведущие к неизвестным землям, магическим городам и древним легендам. Оружие Бернта – «История искусств», автор которой написал тысячи пейзажей чужих миров, тем самым оставив по всему миру миллионы дорог, ведущих к неизведанному. И вот сейчас Бернт, в полной тишине сидя рядом с Ханнесом, разглядывая висящую напротив картину, невольно думал том, где бы и кем бы он мог быть сейчас, согласись он тогда уйти вслед за Ханнесом. Какие бы страны и города он увидел, в каких местах побывал, чему бы научился. А самое главное – захотел бы он вернуться назад, в этот мир, который казался родным с самого рождения? Так много хотелось обсудить! Поговорить о том, как живется принцу волшебной страны, какие ещё места существуют в его мире, как выбирают Хранителей Душ и Проводников, сколько длятся день и ночь, и как сменяются на небосводе Тысяча Солнц. И так многое хотелось сказать! Рассказать о том, что мальчик с аметистовыми глазами стал символом спокойствия и вечной дружбы, которой не страшны границы времени и миров; о том, что мир, знакомый с самого рождения, в одно мгновение может перевернуться с ног на голову и предстать чем-то совершенно новым, пугающим, но таким интересным; о том, что вера во что-то, прячущееся совсем рядом, всегда поддерживала его в самые темные времена, и жить было легче, осознавая, что где-то далеко существуют другие миры, волшебные города и страны, и – что самое главное – тебя там любят и ждут. Но времени у Бернта было только десять минут. И ни секундой больше. – Это наша последняя встреча. Бернт невольно вздрагивает и поворачивается к Ханнесу. Невероятно спокойный, совсем непохожий на того взбалмошного мальчишку, каким он предстал перед Бернтом впервые, Ханнес не сводил со своего друга взгляда выцветших за долгие годы аметистовых глаз. – Последняя, Бернт. Если мы и встретимся через десятилетие, с новым поворотом Колеса, то я не приду на встречу. Я буду уже далеко. Путь предстоит неблизкий. Где-то за окном жил мир: горели рождественские огни, сигналили машины, люди бежали по улицам, держа в руках пакеты с подарками родным и близким. Бернту даже не нужно было выходить на улицу, чтобы увидеть эту картину: так знакомо и предсказуемо было все, что происходило в этом мире вот уже почти шестьдесят лет его жизни. Ханнес замолчал, и только Бернт открыл рот, чтобы сказать о ещё десятке непрочитанных книг, о сотне не составленных картах и о тысячах неизвестных дверей в тот мир, как Ханнес неожиданно заговорил: – У нас есть легенда о ланделиях – волшебных цветах Богини Жизни Каат. Папа рассказывал мне, что эти цветы вырастают из крови погибших воинов, на полях сражений. Их называют Цветами Последних Желаний. Маат – одна из Хранителей Душ – ходит по пою боя и собирает цветы в корзину. Позже она передает её Каат, а она, в свою очередь, разносит цветы от погибших воинов по их домам, где их ждут матери и жены, дочери и сыновья, – Ханнес неожиданно замолчал. Бернт, обдумывая услышанное, наблюдал за тем, как Ханнес с интересом изучает отражение рождественских огней в окне музея. – Цветы вырастали у них под окнами и, как говорят, исполняли желания. Желания того, кто погиб в схватке и не успел попрощаться, или того, кто очень хотел что-то сделать, но у него совсем не оставалось для этого времени. Говорят, что люди даже просили о встрече в другом мире. Нужно было только найти этот цветок, – Ханнес широко улыбнулся, и в уголках его глаз расползлись морщинки. – Я обещаю тебе, Бернт, я приду попрощаться. Поэтому, пожалуйста, найди последнюю дверь. – Уже нашел. Бережно переворачивая страницы последнего тома «Истории искусств», Бернт показывал Ханнесу те места, которые совпадали по месту и времени с их встречами. Небольшая деревушка в Лиргардии, которую Ханнес проезжал вместе с отцом, когда они спешили на Совет Королей; трюм корабля, мерно покачивающегося на волнах в бескрайнем, необъятном море; сияющий разноцветными огнями город и утес, расположенный у деревни Орл. Остальные сотни картин – порталы, ведущие в неизведанные миры – слишком далеко, и попасть в них невозможно. Бернт, помедлив, открыл последнюю страницу, и склонившийся над страницами Ханнес широко улыбнулся. На картине – бездонное небо, залитое алым, медовым светом. Лучи уходящего солнца проливаются на протянувшиеся в бесконечность нежно-фиолетовые ряды кустов, очень напоминающих лаванду. К самому небу тянутся заснеженные вершины гор, расположенных на линии горизонта. – Тебя встретят, – Ханнес, улыбаясь, поднимает взгляд на Бернта. – Только поклянись мне, что дождешься. И Бернт клянется. Собственной жизнью. И именно этой картины не оказалось ни в коллекции отца, ни в каком-либо из музеев города. Бернт, сгибаясь под тяжестью прожитых почти девяноста лет, не уставал искать последний ключик к волшебному миру, единственной ниточке, связывающей его с детством, отцом и Ханнесом. Когда он больше не смог ездить по городам сам, на помощь пришли его дочь и сын, а с ними – его многочисленные внуки. «Историю Искусств» бережно передавали из руки в руки, водили пальцем по лавандовым полям, всматривались в закатное небо, невольно поражаясь мастерству художника и красоте поистине магического пейзажа. А потом – приступ, бесконечные белые коридоры и небольшая палата, окнами выходящая на городскую площадь. Бернт помнит, как лежал на кровати, с трудом вдыхая воздух и отчаянно сжимая в кулак сбившуюся простынь. Ему снова снились Ханнес, отец и небольшая деревушка у утеса «Золотой Черепахи». Дочь и сын постоянно дежурили в палате, сменяя друг друга лишь для того, чтобы поспать. Кажется, впервые за несколько десятков лет, они смогли поговорить и понять друг друга и все, что происходило в их семье на протяжении целой жизни. По ночам Бернт плакал, одной рукой утирая непрошенные слезы, а в другой сжимая крошечную копию картины, сделанную его сыном. Плакал из-за матери и отца, из-за того, что по-настоящему важные разговоры случились на пороге его жизни, из-за того, что он так мало сделал и так мало показал детям и внукам, что не был с ними рядом, когда они больше всего в нем нуждались. А он так этого хотел. Иметь большую, любящую семью и верных, надежных друзей. А потом ему пришла посылка от отца. Её внесли в палату, когда Бернт только проснулся, и ему стоило большого труда понять, что происходит, и почему комната вдруг заполнилась людьми. Посылка, представляющая собой обтянутое тканью полотно, была размером в человеческий рост. К посылке прилагалось письмо, подписанное строгим почерком отца. Тоненький конверт, в котором, на первый взгляд, не могло быть ничего. Открыв с разрешения отца печать, сын Бернта растерянно разглядывал единственный листок, вложенный в потускневший от времени конверт. – Бред какой-то. Я не знаю, что это за язык, – он, слегка помедлив, передал записку Бернту, и присоединился к сестре, распаковывающей полотно. Бернт, осторожно взяв в руки листок, перевел взгляд на странные символы, выведенные твердой рукой отца. Конечно, никто из его детей и внуков не знал, что здесь написано. Ему, Бернту, понадобилось почти двадцать лет для того, чтобы расшифровать дневники отца и прочитать десятки книг, написанных на чужом языке: книги о волшебных городах и странах, о Хранителях лесов и гор, о людях, переводящих на Другую Сторону души. О клятвах на Мертвом языке. На том самом языке, на котором и была сделана эта запись: И заблудившись, доверюсь тебе Бернту даже не нужно было слышать восхищенные крики дочери, чтобы понять, что именно оставил ему отец. Огромное полотно, на котором было изображено закатное небо и вытянутые на сотни километров лавандовые кусты. Благоговейно перешептываясь, все отступили в сторону, и Бернт, сев на кровати, смог наконец-то рассмотреть то, за чем охотился на протяжении последних двадцати лет. И плакал он теперь только от радости. Второй приступ окончательно приковал Бернта к кровати, и теперь к дежурствам у его постели присоединились внуки. Он не мог есть и пить, спал урывками, и постоянно следил, изменится ли пейзаж на картине. Борясь с отчаянием, он делал безуспешные попытки подняться с постели и подойти ближе, чтобы рассмотреть гуляющих по полям людей или вспыхивающие на небосводе звезды. Но картина не менялась никак, как бы он не старался рассмотреть её, и сколько бы вопросов не задавал дочери и сыну. Ничего. А однажды, проснувшись одним особенно хмурым осенним утром, Бернт вдруг понял, что умирает. Картину повесили прямо напротив его кровати, и теперь он не отрываясь смотрел на нее, силясь найти хоть один намек на то, что он не опоздал к месту встречи. И что к нему обязательно придут попрощаться. Последние дни – как в тумане. Бернт помнит, как над ним появлялось обеспокоенное лицо дочери, помнит, как сын сжимал его руку, а внуки, испуганно глядели на него из-за родительской спины. Помнит негромкие голоса, шум дождя за окном и мигающую в белоснежном коридоре лампочку. И все – как один, бесконечно тянущийся день, который, казалось, не закончится никогда. А потом он проснулся. В палате не было никого. Было тихо, лишь дождь барабанил по стеклам, да откуда-то издалека слышались сирены скорой помощи. Бернт поначалу и не понял, что его разбудило. И лишь с трудом приподнявшись с кровати, он увидел свечение на прежде хранящей скорбное молчание картине. По алому небу лениво ползли облака, слышалось пение птиц, и ветер лениво покачивал фиолетовые кусты лаванды. Но не это привлекло внимание Бернта. Кто-то шел к нему по лавандовым полям. Дрожа от волнения, он попытался встать, но трясущиеся руки с трудом попадали в рукава халата. Плача от отчаяния, понимая, что ему не удается контролировать собственное тело, Бернт упал обратно на кровать и стал жадно всматриваться в приближающиеся к нему силуэты, которых при ближайшем рассмотрении оказалось пять. В какой-то момент Бернт понял, что мир вокруг него замер. Его не волновало то, что в любой момент в палату могут зайти его дети или врачи, и тогда страшно представить, что случится и с ним, и с дверью в волшебный мир. Бернт, неожиданно успокоившись, вдруг понял, что все будет хорошо. И сейчас для него самое главное – достойно встретить гостей. Их оказалось не пятеро, а шестеро. Все в белоснежных одеждах, старшей девочке на вид около двенадцати. Бернт, затаив дыхание, наблюдал, как они осторожно перелазят через деревянную раму, помогают друг другу спуститься на сияющий чистотой пол, а потом, словно по команде, строятся перед ним. Все – смуглые и темноволосые. С блестящими радостью и любопытством аметистовыми глазами. К нему подошла самая старшая, сжимающая в руках небольшой букет белоснежных цветов. – Дедушка сказал передать их Вам. Он загадал для Вас желание. Бернт плохо помнит, что было потом. Помнит, как осторожно взял у девочки цветы и прижал их к груди. Помнит, с каким интересом рассматривали его девочка и пятеро её младших братьев. Помнит, как они осторожно, один за другим, возвращались обратно в картину, а он наблюдал за ними с невероятным спокойствием, с силой сжимая в руках цветы. Потом – темнота, испуганное лицо его дочери, теплые прикосновения и осторожные поцелуи в лоб. Тихие разговоры, шепот, тепло родных рук. А потом – непроглядная тьма. И Бернт, рвано хватая ртом воздух, просыпается на залитой лучами уходящего солнца поляне. – Бернт! Ты опять заснул! Перед глазами неожиданно появляется Ханнес. По лицу у него расползается довольная улыбка, а аметистовые глаза жадно поблескивают. – Что тебе снилось на этот раз? Тот же странный мир? Я снова был там королем? А, Бернт? Сердце колотится в груди с такой силой, что Бернт едва слышит собственные мысли. Он трясет головой, словно пытаясь отогнать видение, и силится подняться на дрожащих ногах. – Да, что-то такое было, – хрипло выдает он. – Я, конечно, люблю эти твои сны, но быть королем надоедает, знаешь ли, – Ханнес широко улыбается и поднимается следом за Бернтом. – Папа приехал из города. Сказал, что привез нам подарки. Я видел твой: там, наверное, ещё одна книга. А ещё, Бернт, – Ханнес хватает брата за руку и понижает голос практически до шепота. – Папа сказал, что видел Проводников. Самых настоящих! Пойдем быстрее, пока все соседи не сбежались! Бернт кивает и, бросив последний взгляд на протянувшиеся до самого горизонта лавандовые кусты, бежит наперегонки с Ханнесом к дому. Отец встретит их на пороге небольшого домика, расположенного совсем рядом со знаменитым утесом «Золотая Черепаха». Выйдет, держа в зубах трубку и новую книгу о художниках, заботливо завернутую в бумагу. Бернт обнимет отца так крепко, что самому станет трудно дышать, а потом они все вместе пойдут в дом, где мама уже накрыла на стол и испекла яблочный пирог. И, сидя в окружении семьи, глядя на сияющего Ханнеса, слушая рассказы отца и обнимая мать, Бернт вдруг поймет, что не помнит сна, который заставил его проснуться с колотящимся сердцем. Как будто его не было вовсе.
|
|
|
| Всего комментариев: 1 | |
|
| |